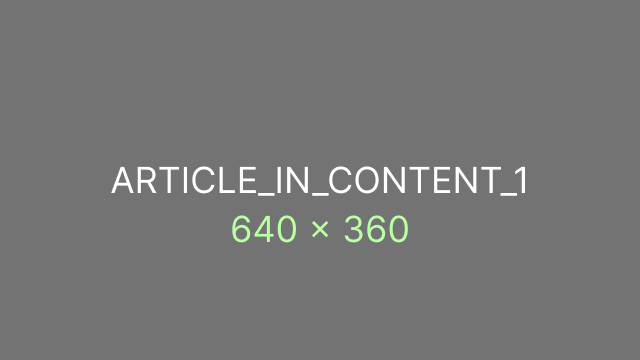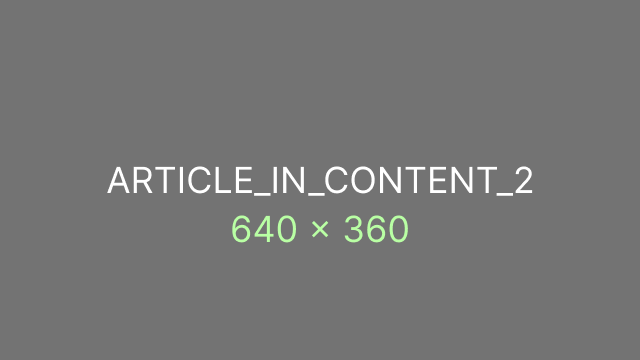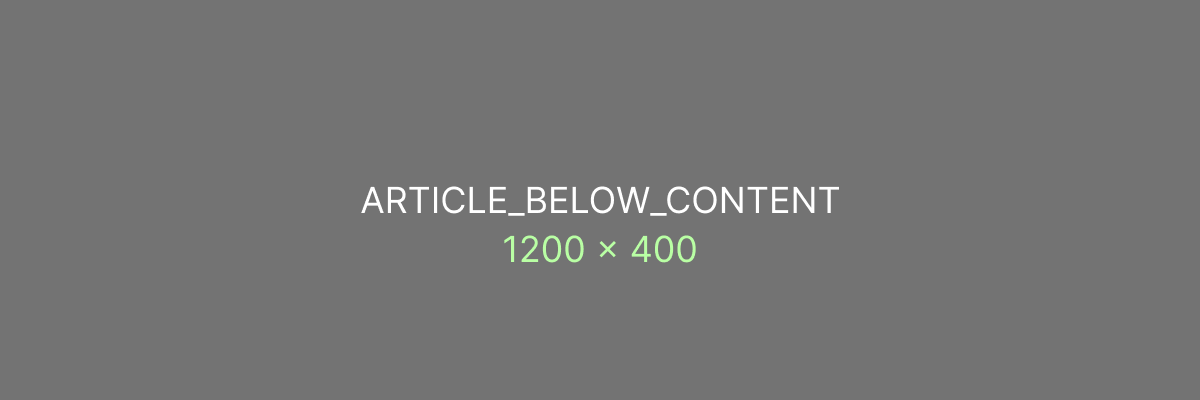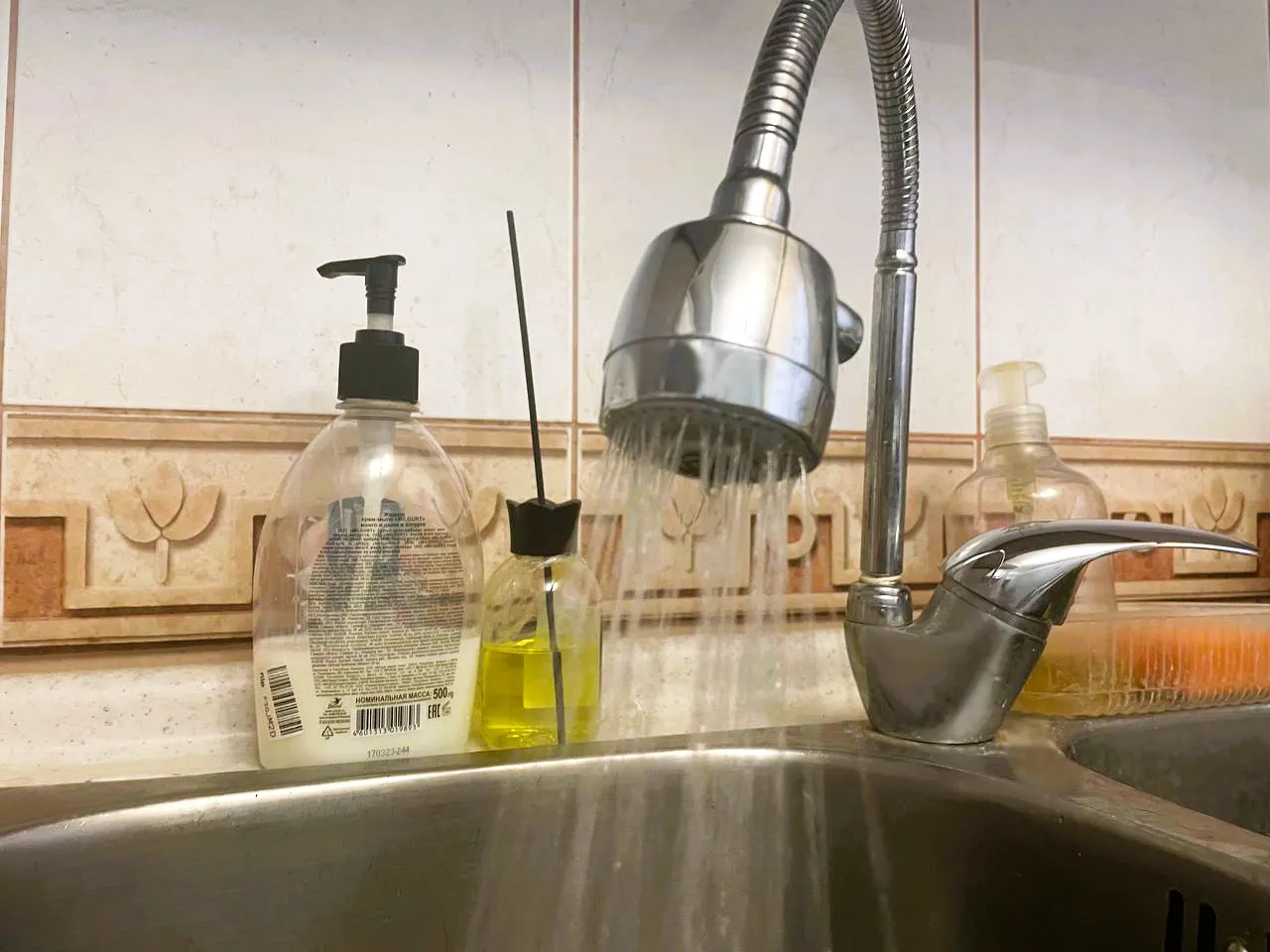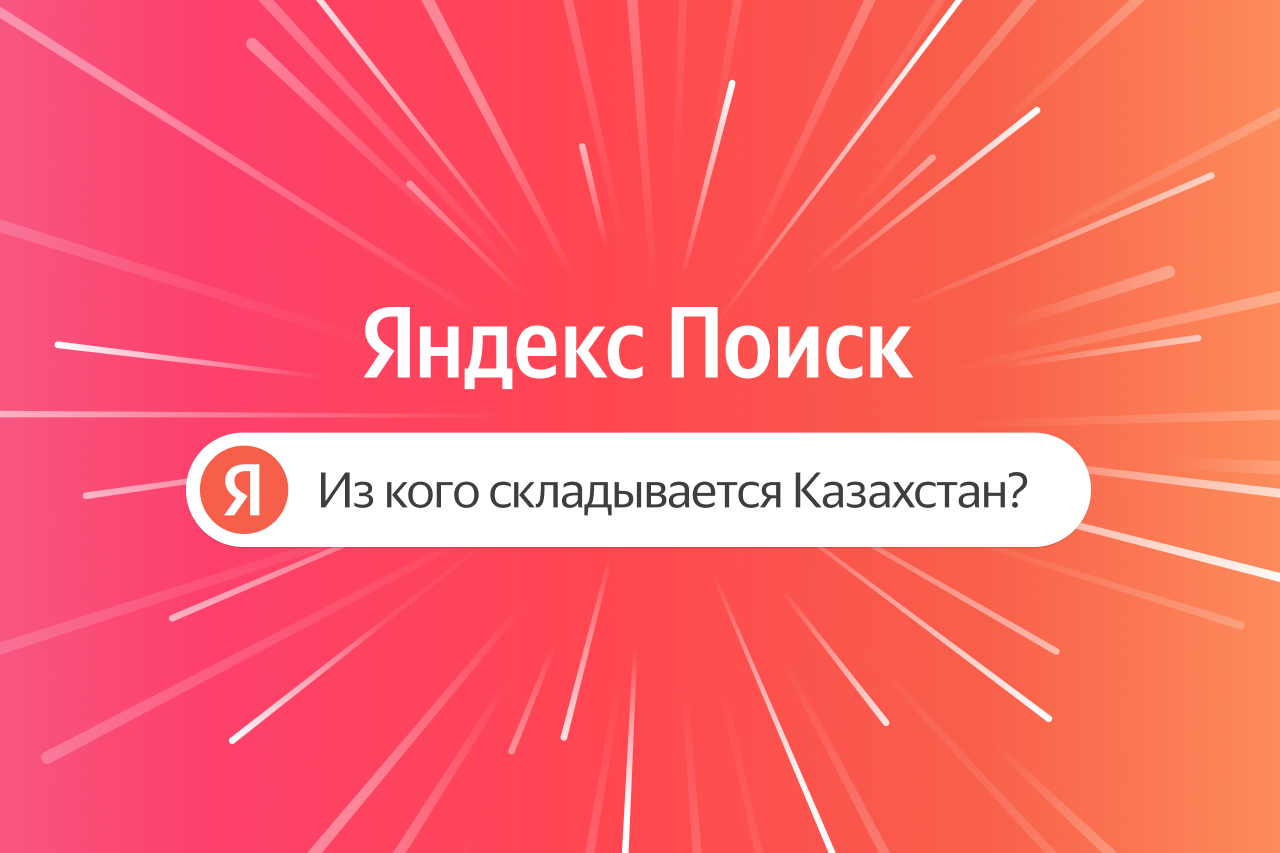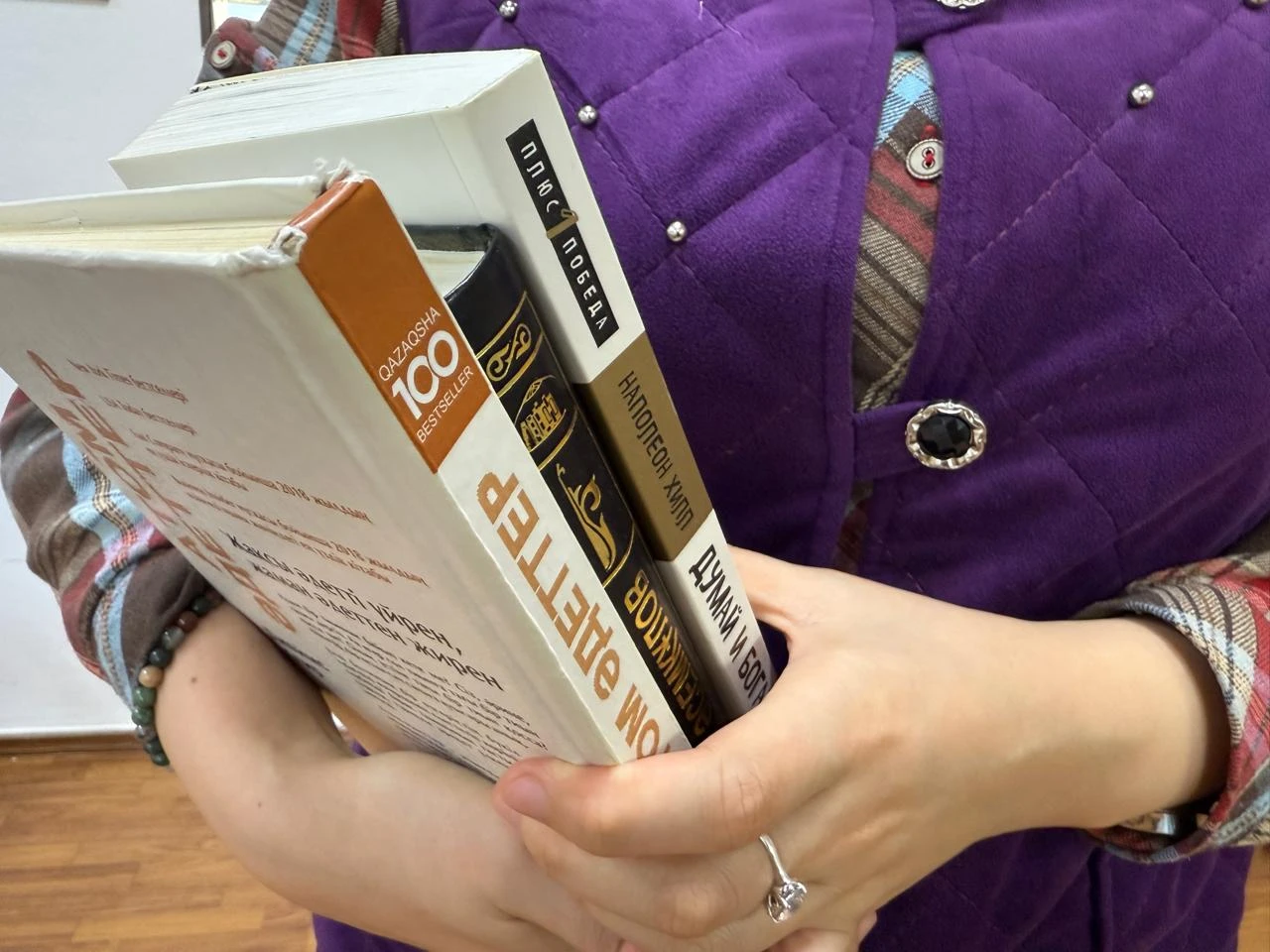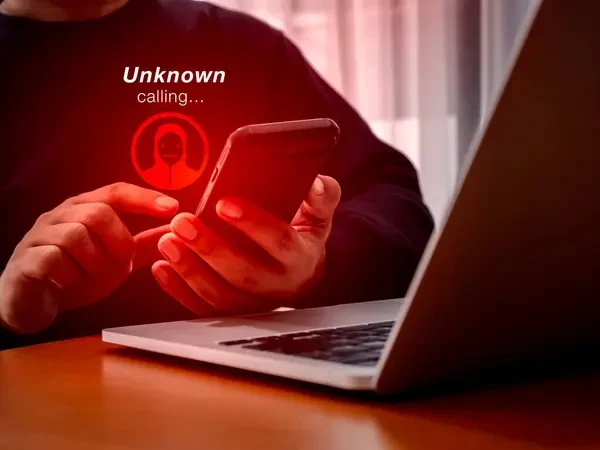Он привел некоторые факты по рынку:
- 2011 год: экспорт — 0 тонн (данные по производству за 2010 год — 406 тыс. тонн);
- 2019 год: производство — 286 тыс. тонн, экспорт — 63 тыс. тонн (22% от производства);
- 2024 год: производство — 430 тыс. тонн, экспорт — 22 тыс. тонн (5,1%).
В 2011 году стартовала программа по развитию экспорта мяса. После 6 лет реальной работы Казахстан в 2019 году вышел на рекорд — 63 тыс. тонн экспорта (включая живой скот). Это был лучший результат со времён СССР. Но именно в 2019 году начались ограничения: сначала запретили вывоз племенного скота, потом — всего КРС и МРС, даже коз. Затем пришёл COVID, закрылись границы, и на внутренний рынок хлынул избыток мяса — почти четверть от общего потребления. Из-за этого цены рухнули, и фермерам стало невыгодно заниматься мясом. Многие начали забивать маточное поголовье, что только ухудшило ситуацию.
— От такого положение дел выигрывали только чиновники, которые с удовольствием рапортовали о недопущении роста цен на продовольствие. Но это была пиррова победа. Такая «стабилизация цен» была за счет убытков фермеров, их «сброса» маточного стада. И она не могла продлиться долго. Это было подобно эффекту сжимавшейся пружины, отыгрыш которой был неизбежен. Высвобождение энергии этой деформации цен (ведь если бы дали возможности расти ценам на мясо постепенно, каждый год, как и всем остальным видам товаров, то может быть это не так было бы болезненно) было резким и болезненным (как для потребителей, так и для чиновников, которые сжимали эту пружину). Это как раз и было то, что мы наблюдали в этом году. Это то что называется рыночными аксиомами, — объясняет Асылжан Мамытбеков.Чиновник считает, что нельзя искусственно удерживать цены — рынок всё равно возьмёт своё. Вместо этого, считает Мамытбеков, государству стоит адресно помогать социально уязвимым гражданам, а не вмешиваться в ценообразование. Ведь от сельхозцен зависят доходы почти трети населения страны.